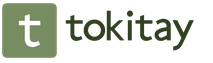Николай бердяев.философия неравенства. письмо седьмое
Традиция русской религиозно-философской мысли, идущая от славянофилов и Вл. Соловьева, узнала свой расцвет в первые десятилетия ХХ века, в период, который нередко называют «русским религиозно-философским ренессансом».
Среди представителей этого периода можно выделить с точки зрения решения ими философских и религиозных вопросов два основных направления, испытавших так или иначе влияние Соловьева. Первое направление (С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, Л. П. Карсавин, С. Л. Франк и др.) много внимания уделяло дальнейшей разработке соловьевской философии «всеединства». Представители второго направления (Н. А. Бердяев, Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, Л. С. Шестов и др.) по своему истолковали стремление Соловьева к «новой форме» христианского сознания. Сформулированная ими концепция «нового религиозного сознания» опиралась не только на идеи Соловьева, но и Достоевского, Шопенгауэра, Ницше, Кьеркегора и др.
Важное место в творчестве представителей второго направления в русской религиозной философии начала ХХ века занимают экзистенциальные проблемы. Они говорили о необходимости радикальной реформы церкви, выступали с острой критикой исторического христианства, заявляя, что в истории было слишком много «плоти» и мало «духа», проповедовали новую «религию свободного духа». Одной из наиболее ярких фигур, стоящих у истоков «нового религиозного сознания» был Н. А. Бердяев (1874–1948). Он был уверен, что грядущее обновление общества должно осуществляться на основе реформированного православия, вернувшегося к своим гуманистическим истокам. «Новое религиозное сознание» представлялось Бердяеву почвой для грядущего расцвета культуры, способного снять проблему насильственного разрешения социальных противоречий.
Превыше всего Бердяев ставит человеческую личность: «Весь мир ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным лицом человека, с единственной его судьбой». Проблема свободы личности занимает центральное место в его творчестве. Почему человек – по природе своей свободное и творческое существо – так неумело пользуется этими дарами Всевышнего; почему в истории осуществляется совсем не то, что задумывалось человеком; почему плоды познаний человек обращает во зло себе, на угнетение себе подобных; почему одинок талант, трагична судьба гения и торжествует посредственность; почему человек рожден свободным, а между тем он везде и всегда в оковах – над этими вопросами размышляет Бердяев в главных своих философских произведениях: «Философия свободы» (1912) и «Смысл творчества» (1916).
Свобода Бердяева – это свобода духа человека, его сознания и самосознания. Она не может быть детерминирована ничем, что стояло бы вне и над человеком. «Свобода есть моя независимость и определяемость моей личности изнутри». По мнению Бердяева, человек не может именоваться человеком, если он не предоставлен самому себе. Подлинная человеческая жизнь – в непредсказуемости (возможно, трагической) собственного решения. Вместе с тем, Бердяев видит и «трудности свободы». Свобода, предполагающая выбор, шаг в неизвестность, чревата опасностью, осложняет жизнь. Поэтому большинство людей готовы сменить свободу на спокойное счастье безответственности. «Я всегда думал, – замечает Бердяев, – что свобода аристократична, а не демократична. Огромная масса людей совсем не любит свободы и не ищет ее».
Наиболее ярким проявлением внутренней свободы человека, по мнению Бердяева, является творчество. «Цель творческого порыва – достижение иной жизни, иного мира». В книге «Смысл творчества» Бердяев пишет, что творчество священно, потому что оно – «ответ человека на зов Бога и встреча с ним». Бердяев рассматривает историю и культуру как проявление творческой мощи человека.
Смысл человеческой истории Бердяев видит в духовном творчестве, в развитии человеческой свободы. Для него история общества – это не история экономики или политики, а прежде всего история духовной культуры. И в этой истории ключевым событием является возникновение христианства. В книге «Смысл истории» Бердяев раскрывает великое значение христианства для человека. Открыв в человеке божественную природу, христианство провозгласило абсолютную ценность человеческой личности. Однако, начиная с эпохи Возрождения, христианский гуманизм вытесняется «языческим гуманизмом». Все большее место в духовной жизни человека начинает занимать то, что раньше было на «периферии жизни». Материальные ценности вытесняют ценности духовные. Возникает новая «массовая культура» пониженного качества. Такую «переродившуюся» культуру Бердяев называет «цивилизацией».
Противопоставление культуры и цивилизации обычно для ХХ века, и Бердяев стал одним из первых выразителей этого умонастроения. Культура духовна и в конечном счете религиозна, она предполагает высокое качество личности творца. Цивилизация атеистична и демократична, ей нужна не свободная индивидуальность, а человек без собственного лица. Цивилизация любит массу и равенство. Культура, спасающая человека тем, что говорит ему о неполноте материальной жизни, теперь, по мнению Бердяева, становится ненужной, и цивилизация расправляется с ней. Это нашло свое выражение также и в философии. К низким инстинктам свел – духовность человека З. Фрейд. К экономике сведена духовная жизнь общества К. Марксом.
Выход из того кризиса, который переживает человечество, Бердяев видит только в возвращении к абсолютным религиозным ценностям. К тому принципу организации общественной жизни, который А. С. Хомяков назвал «соборностью». «Соборное» общество, по Бердяеву, это люди объединенные общей любовью к Христу, это «религиозный коллективизм», который один только может преодолеть противоречие между социальной организацией и индивидуальной свободой человека.
Такое общество Бердяев противопоставляет и капитализму и социализму, которые, по его мнению, одинаково буржуазны. В понятие «буржуазности» философ вкладывает не столько социально-экономическое, сколько духовное и даже религиозное содержание. «Буржуазность» для него – это неверие в мир высших ценностей и «исключительная вера в мир видимых вещей». Особенно враждебен личности и ее свободе коммунизм, для которого человек всего лишь единица класса, социальной группы, где он из цели превращается в средство для достижения неких надличностных целей.
Логика рассуждений приводит Бердяева к теме о России, ведь именно здесь торжествует крайнее проявление цивилизации – коммунизм. В книге «Истоки и смысл русского коммунизма» он показывает, то такой жребий не был случайным для России. Для Бердяева не было сомнений, что коммунизм и Россия соединены органично. Поясняя свою позицию, философ обращается к русской истории, выявляя ее необычность, раскрывает особенности национальной психологии. Бердяев обращает внимание на такие черты русского национального характера, как максимализм в требовании социальной справедливости, неуважение к государственной власти, слабость индивидуального правосознания, религиозную устремленность, искание Царства Божьего на Земле. Для Бердяева «русский марксизм» – это своеобразная форма народничества. Соединенный со стихией народного гнева и бунта, он породил религию «русского коммунизма».
Бердяев приходит к выводу, что «русский коммунизм» есть этап в развитии «русской идеи», духовности русского народа. Этап этот завершится тогда, когда народ вернется к истинным религиозным ценностям, вернет жизни ее религиозный смысл. Но для этого недостаточно освободить человека от внешнего насилия, необходимо вернуть ему внутреннюю свободу, условием которой является восстановление связи человека с Богом. Только в этом случае коммунизм уйдет в прошлое, уступая место «соборному» обществу.
В 1922 году Н. Бердяев, С. Булгаков, Л. Карсавин, С. Франк, Н. Лосский вместе с другими крупнейшими деятелями русской культуры были высланы за границу как «идеологически чуждые советской власти элементы». Их философское творчество, обогащенное духовным опытом революции, продолжалось в эмиграции. Годы эмиграции – это период окончательного оформления русской религиозной философии как особой школы философской мысли, время ее выхода на мировую сцену. Проблематика этого периода достаточно разнообразна и интересна, но она выходит за рамки рассматриваемой темы и заслуживает отдельного разговора.
Литература
- Бердяев Н. А. Русская идея // Вопросы философии. 1990. № 1, 2.
- Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
- Бирюков Н.Н. Соборность как религиозный и политический идеал // Философски науки. 2005 № 6.
- Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии. Спб., 1995.
- Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991.
- Кантор В. К. Западничество как проблема «русского пути» // Вопросы философии. 1993. № 4.
- Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984.
- Кознова И.Е. Проблемы российского самосознания // Вопросы философии. 2007. № 6.
- Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991.
- Лосев А. Ф. Русская философия // Философия, мифология, культура. М., 1991.
- Попов Г.А. Что стоит за вопросом о жизни и смерти в религиозно-философском учении Л.Н. Толстого // Философские науки. 2004. № 3.
- Соловьев В. С. Сочинения в 2-х томах. М., 1988.
- Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1989.
- Чаадаев П. Я. Философские письма и статьи. М., 1989.
Вопросы для повторения
Философия неравенства
Можно было понимать свободу так, как понималась она в греческой демократии, но нельзя было понимать её так, как она раскрылась христианскому религиозному сознанию, познавшему бесконечную духовную природу человеческой личности. Учение Руссо было рецидивом языческого сознания. Он не знает личной свободы, не знает духовной природы человека, независимой от общества, не знает её неотъемлемых прав. Он отрицает свободу совести, порабощает совесть человеческую обществу, суверенному народу. И его сознание политической свободы – дохристианское сознание. И все вы, идущие за Руссо, идущие за Марксом, все вы, подменяющие реальную свободу личности призрачной свободой общественной, все вы язычники, все вы отщепенцы христианства. Для вас не существует человека во внутренней, духовной его действительности, а существует лишь человек в его социальных оболочках. Во имя нового бога вашего – суверенного народа – вы лишаете человека всех его прав. Человек имеет глубокую онтологическую связь с такими подлинными реальностями, как церковь, как национальность, как государство. Но что есть онтологического во всеобщем избирательном праве, в социализации промышленности, во всей вашей промышленности, во всем вашем коллективизме? Почему человек должен поступиться своими правами, ограничивать свою природу во имя таких фикций и призраков? В идеалистическом либерализме были просветы лучшего сознания, было большее внимание к человеческой природе. Но просветы эти были закрыты поверхностным «просветительством». Ибо «просветительство» никогда не просвещает глубоко сознание. Свет его – не солнечный свет. Это – искусственный свет лампы, ослабляющий самую потребность в истинном свете. И лучше пройти через полную тьму, через ночь сознания, чтобы почувствовать жажду приобщения к царству подлинного света. Широко распространенная либеральная идеология слишком срослась с этим поверхностным просветительством, и в нём утонули проблески более высокой правды. Либерализм влачит существование, лишенное всех онтологических основ, он живет крохами и клочьями какой-то замутненной правды. И с ним перестали считаться как с самостоятельным явлением духа. Либерализм так основательно выветрился, так обездушился, что можно ещё признавать элементы либерализма, но невозможно уже быть либералом по своей вере, по своему окончательному миросозерцанию. Либерализм перестал быть самостоятельным началом, он сделался каким-то компромиссом, каким-то полудемократизмом или полуконсерватизмом. Он противопоставляет демократической или социалистической вере иную тактику, иные интересы, но бессилен уже противопоставить иную веру, иную идею. Слишком часто делаются либералами те, у кого слаба вера, кто не любит слишком утруждать себя идеями. В либеральном лагере невозможен прозелитизм. Слишком часто сами либералы пасуют перед более радикальными и крайними идеями, склоняются перед типом революционера и себя считают недостойными приобщиться к революционной вере и революционному действию. Либерал сделался синонимом умеренного, человека компромисса, оппортуниста. Но можно ли назвать умеренным и оппортунистом того, у кого есть своя идея, иная, чем у социалиста-революционера, своя вера, кто верен до конца своему началу? Либералы обычно нравственно пасуют перед революционерами и бессильны противопоставить им иную, более высокую нравственную правду. Чем объяснить такую выветренность и опустошенность либерализма? Почему угасли в нём проблески правды более высокой, чем та, которая выдвигается демократизмом и социализмом? «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». «Где дух Господень, там и свобода». Вот в какой глубине должно обосновываться начало освободительное. Поистине, христианство хочет освободить человека от рабства, от рабства греху, рабства низшей природе, рабства стихиям этого мира, и в нём должно было бы искать основ истинного «либерализма». Истинное освобождение человека предполагает освобождение его не только от внешнего рабства, но и от внутреннего рабства, от рабства у самого себя, у своих страстей и своей низости. Об этом не подумали вы, просветители-освободители. Вы оставляете человека во внутреннем рабстве и провозглашаете права его, т. е. права рабьей, низшей природы. В основе вашего либерализма был внутренний порок. И потому он не мог не пасть. Либерализм ваш роковым образом изменил своей единственной возможной духовной основе. Вы сделали декларацию прав человека и оторвали её от декларации прав Бога. В этом был ваш первородный грех, за который вы наказаны. Выше автономии стоит теономия. Это глубоко поняла французская католическая школа начала XIX века с Ж. де Мэстром во главе. И школа эта потребовала провозглашения забытых прав Бога, требовала этой священной декларации до забвения неоспоримых прав человека. Потому что вы забыли о правах Бога, вы забыли и о том, что декларация прав человека должна быть связана с декларацией обязанностей человека. Путь, на котором права человека были оторваны от обязанностей человека, не довел вас до добра. На этом пути выродился ваш либерализм. Требования прав без сознания обязанностей толкало на путь борьбы человеческих интересов и страстей, состязание взаимоисключающих притязаний. Права человека предполагают обязанность уважать эти права. В осуществлении прав человека самое важное не собственные правовые притязания, а уважение к правам другого, почитание в каждом человеческого образа, т. е. обязанности человека к человеку и человека к Богу. Обязанности человека глубже прав человека, они и обосновывают права человека. Право вытекает из обязанности. Если все будут очень сильно сознавать права и очень слабо сознавать обязанности, то права никем не будут уважаться и не будут реализованы. И права человека, и обязанности человека коренятся в его богоподобной природе. Если человек – лишь подобие природной и социальной среды, лишь рефлекс внешних условий, лишь дитя необходимости, то нет у него ни священных прав, ни священных обязанностей, то у него есть лишь интересы и притязания. Права человека предполагают права Бога, это прежде всего права Бога в человеке, права божественного в человеке, его богоподобия и богосыновства. Человек потому лишь имеет бесконечные права, что он бесконечный дух, что глубина его входит в божественную действительность. Личность человеческая не довлеет себе, она предполагает бытие Бога и божественных ценностей. Возможно ли провозглашение священных прав человека, как усовершенствованного и дисциплинированного зверя, как куска праха, в котором на мгновение загорелась жизнь? Права человека должны иметь онтологическую основу, они предполагают и бытие души человеческой в вечности, и бытие, бесконечно превышающее эту душу, бытие Божие. Об этом забывает ваш просвещенный либерализм и ваш радикализм. И потому он должен был выветриться, он не мог осуществить никаких прав человека. Отвлеченный, доктринерский либерализм, претендующий опереться на собственную пустоту, есть невыносимая ложь, и против него должны подняться движения, искавшие реального содержания социальной жизни. * * * Либеральная идеология зародилась в умственной атмосфере XVIII века, которая склонна была утверждать естественную гармонию. Эта идеология проникнута верой в естественную гармонию свободы и равенства, во внутреннее родство этих начал. Французская революция совершенно смешивала равенство со свободой. Весь XIX век разбивал иллюзии естественной гармонии, он жизненно раскрыл непримиримые противоречия и антагонизмы. Обнаружилось, что равенство несет с собой опасность самой страшной тирании. Обнаружилось, что свобода нисколько не гарантирует от экономического рабства. Отвлеченные начала свободы и равенства не создают никакого совершенного общества, не гарантируют прав человека. Между свободой и равенством существует не гармония, а непримиримый антагонизм. Вся политическая и социальная история XIX века есть драма этого столкновения свободы и равенства. И мечта о гармоническом сочетании свободы и равенства есть неосуществимая рационалистическая утопия. Никогда не может быть замирения между притязаниями личности и притязаниями общества, между волей к свободе и волей к равенству. Отвлеченный либерализм так же бессилен разрешить эту задачу, как и отвлеченный социализм. Это – квадратура круга. В плане позитивном и рациональном задача эта неразрешима. Всегда будет столкновение безудержного стремления к свободе с безудержным стремлением к равенству. Жажда равенства всегда будет самой страшной опасностью для человеческой свободы. Воля к равенству будет восставать против прав человека и против прав Бога. Все вы, позитивисты-либералы и позитивисты-социалисты, очень плохо понимаете всю трагичность этой проблемы. Свобода и равенство несовместимы. Свобода есть прежде всего право на неравенство. Равенство есть прежде всего посягательство на свободу, ограничение свободы. Свобода живого существа, а не математической точки, осуществляется в качественном различении, в возвышении, в праве увеличивать объем и ценность своей жизни. Свобода связана с качественным содержанием жизни. Равенство же направлено против всякого качественного различия и качественного содержания жизни, против всякого права на возвышение. Один из самых замечательных и тонких политических мыслителей XIX века, Токвиль, первый ясно сознал трагический конфликт свободы и равенства и почуял великие опасности, которые несет с собой дух равенства. «Я думаю, – говорит этот благородный мыслитель, – что легче всего установить абсолютное и деспотическое правительство у народа, у которого общественные состояния равны, и полагаю, что если подобное правительство раз было установлено у такого народа, то оно не только притесняло бы людей, но с течением времени отнимало бы у каждого из них многие из главнейших свойств, присущих человеку. Поэтому мне кажется, что деспотизма всего более следует опасаться в демократические времена». Этот благородный ужас перед нивелировкой, перед европейской китайщиной был и у Д. С. Милля. И его беспокоила судьба человеческой личности в демократическом обществе, одержимом духом равенства. Иллюзии XVIII века, иллюзии французской революции были разбиты. Свобода расковывает безудержную волю к равенству и таит в себе семя самоотрицания и самоистребления. Либерализм порождает демократию и неудержимо переходит в демократизм. Таково его последовательное развитие. Но демократия истребляет самые основы либерализма, равенство пожирает свободу. Это обнаружилось уже в ходе французской революции. 93 год истребил декларацию прав человека и гражданина 89 года. Это процесс фатальный. Противоречие между свободой и равенством, между правами личности и правами общества непреодолимо и неразрешимо в порядке естественном и рациональном, оно преодолимо и разрешимо лишь в порядке благодатном, в жизни церкви. В общении религиозном, в обществе церковном снимается противоположность между личностью и обществом, в нём свобода есть братство, свобода во Христе есть братство во Христе. Духовная соборность разрешает эту квадратуру круга. В ней нет различия между правом и обязанностью, нет противоположения. Но в церковном обществе нет механического равенства, в нём есть лишь братство. И свобода в нём не есть противоположение себя другому, ближнему своему. Религиозное общение основано на любви и благодати, которых не знает ни либерализм, ни демократизм. И потому разрешаются в нём основные антиномии человеческой жизни, жесточайшие её конфликты. Внутреннее развитие либерализма ведет к демократическому равенству, которое становится в неизбежное противоречие со свободой. Но и с другой стороны либерализм подвергается опасности разложения и вырождения. В либеральной идее, самой по себе, нет ещё ничего «буржуазного». Нет ничего «буржуазного» в свободе. Я с отвращением употребляю ваши излюбленные слова, пошлые и поверхностные, лишенные всякого онтологического смысла. Я не думаю, чтобы вы знали, что такое «буржуазность», и имели право говорить о ней. Вы ведь сами целиком в ней пребываете. Но нельзя не признать, что господство отвлеченного либерализма
“Философия неравенства” – единственное произведение Н. Бердяева, которое полно и достаточно систематически излагает его политические выводы, взгляды и позиции. Конечно, политические выводы можно сделать и из “Философии свободы” и из “Смысла истории”, но ни в одной из этих работ Бердяев не ставил задачу систематически излагать свою политическую доктрину. Кроме того, ни одна другая его работа не писалась как непосредственный отклик на политические события своего времени, ни одна из них не содержит такого политического пафоса (который позже не понравился и самому Бердяеву, что послужило причиной отречения автора от своей книги), ни одна другая его книга не содержит такой тотальной критики своих противников. “Философия неравенства” выделяется и в ряду подобных ей произведений русских философов, писателей, публицистов. В ней в каком-то смысле обобщено содержание таких сборников, как “Вехи”, “Из глубины”, таких книг, как “Философия хозяйства” Булгакова, “Грядущий хам” Мережковского и др. Все это делает “Философию неравенства” заметным явлением в философской публицистике своего времени. Но не только это. Книга актуальна. Во-первых, она актуальна по временным историческим причинам: мы живем в одну из интересных эпох в истории России, в такую же эпоху писал и Бердяев свою “Философию неравенства”. Естественно, что проблемы, возникшие тогда и возникающие сейчас, проблемы, на которые пытается дать ответ Бердяев, ? это одни и те же проблемы. Конечно, многое изменилось, многого уже нет, многое появилось, но Бердяев и не пытался поспеть за временем. Его рассуждения – это, как говорил он сам, рассуждения «с точки зрения вечности». Книга поднимает вечные проблемы, одной из которых — и, на наш взгляд, главной в книге Бердяева — является проблема отношения христианства и политики. Эта проблема чрезвычайно важна и сложна, и вряд ли здесь можно однозначно говорить, что Бердяев удовлетворительно и навсегда разрешил ее (а такую претензию мы легко можем увидеть в тексте), его решение – только одно из многих возможных, может быть, наиболее последовательное или противоречивое, но никак не окончательное. Можно вспомнить, что еще античные критики христианства, философы-язычники (Прокл, Юлиан) утверждали, что христианство несовместимо с политикой, с государственной деятельностью; во время, когда Бердяев писал свою книгу, восторжествовал противоположный взгляд. Популярный тогда Каутский не видел особых противоречий между христианством и социализмом, Блок в поэме “Двенадцать” поэтически соединил христианство и революцию. Христианами объявляла себя и значительная часть анархистов, христианами считала себя и правящая в России верхушка: консерваторы, реакционеры и многие, многие другие. Все это дополнялось столь же пестрыми атеистическими течениями. Многие “христиане”, по мысли Бердяева, только дискредитировали христианство тем, что выдавали себя за его приверженцев. Вот такой гордиев узел взялся развязать, а может, и разрубить, Бердяев. Именно это – настоящая цель его работы, а ни в коем случае не попытка “переубедить” кого-либо, например, большевиков, заставить их отречься от своих взглядов. Структура книги подтверждает сказанное. “Философия неравенства” состоит из 14 писем-разделов, каждый из которых освещает ту или иную проблему с позиции христианства (как оно видится Бердяеву). Бердяев определяется в понятиях, дает им христианский смысл, освобождает их от политической заболтанности. Ведь именно заболтанность – причина того, что эти понятия часто смешивают с христианством, или, наоборот, не замечают их родства.
Письмо 1 называется: “О русской революции”. Мы не найдем здесь ни исторических описаний, ни социологического анализа происходящего. Бердяев задается вопросом: как христианин должен относиться к революции вообще и к русской революции в частности? Исходя из ответа на этот вопрос, можно давать оценки и всем другим отношениям.
С одной стороны, Бердяев признает некоторую “неполитичность” христианства, его несоизмеримость с традиционными политическими категориями: “Христианство так же реакционно, как и не революционно, из него нельзя извлечь никаких выгод для мира сего”. /Бердяев Н. Философия неравенства. – М.: 1990. – С.22/. Ныне торжествуют в мире те, которые хотели бы или совершенно опрокинуть христианство, или извлечь из него революционные выгоды, выгоды социалистические или анархические.” /С.22/. Может показаться, что Бердяев полностью отступает от политики, не хочет интересоваться ею, и ему все равно, какой политический строй в стране и т.п. Это, конечно, далеко не так. Кроме отрицания политического измерения, христианство содержит и положительные ценности и утверждения, но именно на эти ценности и ведет наступление русская революция. Эти ценности – христианская свобода, личность, собственность, аристократизм, иерархия и т.д. и т.п. Все они находят свое воплощение в конкретной истории только тогда, когда власть предержащие забывают о них, начинается падение, которое заканчивается революцией: “Революция – конец старой жизни, а не начало новой жизни, расплата за долгий путь. В революции искупаются грехи прошлого. Революция всегда говорит о том, что власть имеющие не исполнили своего назначения”. /С.25/. “Вы – пассивный рефлекс на зло прошлого, вы – реакция на прошлое,” – бросает Бердяев всем революционерам. / С.27 /.
Но “все революции кончались реакциями. Это неотвратимо. Это закон.” /С.29/. И эти реакции не есть возвращение назад. “В реакциях есть иная глубина. Реакция может быть и творческой, в ней может быть и подлинное внутреннее движение к новой жизни, к новым ценностям… Нарождается что-то третье, отличное и от того, что было в революции, и от того, что было до революции.” / С.30 /. Все это применимо и к русской революции: “Русская революция есть событие, производное от мировой войны, … русский народ не выдержал великого испытания войной.”/с.32/. В чем же было это испытание? Бердяев выстраивает здесь концепцию, согласно которой Россия – вечно женственная страна, которая не из себя породила мужественность, а заимствовала ее в западных учениях, в духе других народов, во Франции и, особенно, в Германии. В войне и в культуре, которая только начала нарождаться, должен был выковаться самобытный русский дух. Но этого не случилось. Война была воспринята не как священная, божественная задача, а как тягота. Русские интеллигенты, женственные по природе, отдались немцу Марксу. Так произошло слияние восточного и западного начал, произошло не так, как должно было бы быть (а должно было случиться рождение мужественности в недрах самой России). Но революция, как уже было сказано, будет иметь реакцию, последствия ее огромны. В первую очередь она послужит уроком миру, что нельзя воздвигнуть царство Божье на земле, что нельзя забывать о религиозных основаниях общественности. Этой проблеме, посвящено второе письмо: “В мире общественном, как и в великом мире, как и во всей Вселенной, борются космос и хаос,” – вот основное положение Бердяева по этому вопросу. / С.53/. Большевики и представляют этот хаос, атомизм. Но что есть космос? “Космическая жизнь иерархична… Излучение света в этом мире должно происходить по ступеням…” /С.55/. “Этим путем охранялось качество от растерзания его количеством и само количество велось к просветлению.” /С.56/. Именно поэтому Бердяев и назвал свою книгу “Философией неравенства”. Это, однако, не значит, что Бердяев делит всех людей на касты. Все люди равны перед Богом и являются личностями. Но “бытие личности предполагает различия и дистанции”. /С.57/. “Личности нет, если нет ничего выше ее.” / С.89/. Коллективизм уничтожает и личность и иерархию, все превращает в одинаковые равные атомы. Все революции – это стихия хаоса, где личность не видна. Лозунги в защиту человека – лишь фразеология. “Ваше гуманистическое и сентименталистское заступничество за человека, ваше исступленное желание освободить его от страданий и есть ваше неверие в Бога и неверие в человека, ваш атеизм. И это всегда ведет к истреблению личности во имя освобождения человека от страданий. Принятие смысла страданий, смысла судьбы, которая со стороны представляется столь несправедливой и неоправданной, и есть утверждение личности, и есть вера в Бога и человека.” /С.61/. Не нужно считать себя справедливее Бога. Подобно этому лживому лозунгу “Во имя человека!”, Бердяев разоблачает и другие лозунги, проясняет другие понятия.
Письмо третье проливает свет на сущность государства, которая не понята теоретиками революции. Основы власти, по Бердяеву божественны, “во всякой власти есть гипноз, священный или демонический гипноз”. /С.70/. Государство, однако, “существует не для того, чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад”. /С.73/ . “По природе своей государство стремится к усилению и расширению”. /С.79/. Вот объяснение расцвета и падения государства, объяснение империалистических войн. Мещанское сознание не знает этого закона, она не понимает и великих подвигов Александра Македонского и др., всех великих деяний истории.
Другое понятие, разбираемое Бердяевым, ? нация. С социализмом и интернационализмом связано очень много предрассудков. “Бытие нации не определяется и не исчерпывается ни расой, ни языком, ни религией, ни территорией, ни государственным устройством и суверенитетом, хотя все эти признаки более или менее существенны для национального бытия. Наиболее правы те, которые определяют нацию как единство исторической судьбы.” /С.93-94/. Бердяев показывает это на примере еврейского народа, лишенного и государства, и территории и т.п. Нация в процессе своей судьбы испытывает и цветенья и падения, в каждый период своей истории она имеет разные права и обязанности. Лишь человек, оторванный от своих корней, отвлеченный человек соблазнится интернационализмом и космополитизмом. В национализме есть глубина, есть дух, который выражается “через качественный подбор личностей, через избранные личности.” /С.101/. Не стоит подменять нацию и народный дух собирательным количественным понятием народа.
Каждая нация имеет свою культуру и свою идею. Есть она и у русской нации. Миссия нации – нести и осуществлять эту идею, жертвуя при этом своими членами. Бог допускает свободное состязание этих идей в войнах. В отдельном письме Бердяев обосновывает необходимость войн. Мессианизм состоит в выходе из границ национального, культура же всегда национальна. Все это не имеет ничего общего со стихийным национализмом – самодовольством, идеализацией стихийного народа. Бердяев выступает за творческий национализм, который даже требует самокритики, беспрестанно возвышая нацию.
Другое понятие – консерватизм – также интерпретируется Бердяевым не совсем традиционно. Консерватор – не просто тот, кто упорно противодействует всему новому и цепляется за старое, как бы плохо ни было. Нет, “консерватизм поддерживает связь времен, не допускает окончательного разрыва в этой связи, соединяет будущее с прошлым.” /С.109/. “Революционный дух хочет создать грядущую жизнь на кладбищах, забыв о могильных плитах, хочет устроиться на костях умерших отцов и дедов, не хочет и отрицает воскресенье мертвых и умершей жизни”. /С.110/. Здесь Бердяев солидаризируется с учением Федорова о необходимости воскрешения всех мертвых в конце истории для вечной жизни.
Отдельное письмо Бердяев посвятил “аристократизму”. Аристократия – правление лучших, правление меньшинства. Большинство никогда не правит или правит лишь исторический миг. Большевики не заменили аристократию демократией, они создали новую “аристократию” – бюрократию, партийных функционеров, заменили хорошее меньшинство меньшинством плохим. Аристократия есть иерархия и уважение к иерархии, поэтому аристократ признает все, что выше его. Плебей же постоянно завидует, постоянно стремится наверх, дух плебея – дух выскочки. Плебей жаден и завистлив. Аристократ жертвенен и щедр. Он никогда не бывает обиженным, а скорее чувствует себя виноватым. Аристократизм – не классовое понятие: “аристократический склад души может быть и у чернорабочего, в тоже время, как дворянин может быть хамом.” /С.130/. Аристократы – гении – рождаются “в провиденциально предназначенные минуты.” /С.137/. Противоположное аристократизму стремление – это стремление к равенству. Лозунг равенства наиболее соблазнителен для массы. “Свобода и равенство несовместимы. Свобода есть, прежде всего, право на неравенство. Равенство есть, прежде всего, посягательство на свободу, ограничение свободы.” / С.148 /. Всякий либерализм не постигает религиозной сущности свободы, а требует, по сути, только равенства и идет рука об руку с демократизмом. Демократизм состоит в обожествлении произвола народной воли без всякой связи с содержанием, т.е. с тем, что именно эта воля волит. Ведь эта воля может быть направлена на зло. А даже если она направлена на добро, это означает, что есть нечто высшее, чем она сама. “В высшей народной воле получается лишь арифметическое сложение.” /С.161/. Но “по большинству голосов история не только не могла бы совершаться, но она никогда бы и не началась. Мир остался бы в первоначальной тьме “нераскрытости”, в равенстве небытия”. /С.50/. “Демократическое равенство есть потеря способности различать качество духовной жизни”. / С.160/. На Западе уже начали понимать несовершенство демократии и ищут новые формы, но возможно, что уже поздно, так как Запад сгнил, обуржуазился, попал под диктатуру публичности. Когда тобой правят высшие идеалы и ценности, это можно стерпеть, когда тобой правят несколько равных тебе или же низших – это худшая тирания.
“Подчинение церкви государству, национальности; высшим ценностям сладостно и благородно. Но почему должен я подчиняться интересам, инстинктам и вожделениям человеческой массы?” /С.171/. Предел демократизма – в социализме. Современный социализм вышел из буржуазной демократии, он насквозь буржуазен. “От “буржуазии” научился “пролетариат” атеизму и материализму, от нее усвоил себе дух поверхностного просветительства, через нее пропитался духом экономизма, она толкнула его на путь борьбы классовых интересов.” /С.177/. “Буржуа” и “пролетарий” ? близнецы”. /С.179/. И у того и у другого дух зависти и жадности и нет никакого благородства. Христианство благородно, и оно не имеет ничего общего с социализмом, хотя распространились теории, сближающие их. Социализм имеет религиозную природу, но это иудаистский хилиазм, т.е. желание построить царство Божье на земле, что для христианства невозможно. “Социализм есть устроение человечества на земле без Бога и против Бога”. /С.183/. “В царстве Божье будет неравенство. С неравенством связано всякое бытиё”. /С.193/. Христианин не бунтует против богатых, хотя и признает, что богатому тяжело расстаться со своим богатством. Христос учил отдавать, но не учил “экспроприировать”.
Противоположностью социализму, по видимости, является анархизм. Но это только видимость. Анархизм не выступает за равенство, выступает он за свободу. Но это пустая свобода, которая не признает над собой высших ценностей, это предельное безбожье, обожествление собственного Я. “Вы хотите иметь возможность делать все, что вам хочется. Но хотелось ли вам уже чего-то по существу?” Анархизм бесцелен. Этот анархизм не совместим, конечно, с христианством, как того хочет Л.Толстой. Анархизмом заражена лишь чернь и литературно-артистическая богема, но ни в коем случае не аристократы.
Стиль Бердяева очень эмоционален, это скорее проповедь, чем рассуждения, поэтому к концу книги мысли начинают повторяться. Так, все аргументы за необходимость войн были высказаны уже ранее за исключением того, что призывы к вечному миру исходят из страха перед смертью, а следовательно – из неверия в вечную жизнь. Единственный вид войны, который отвергает Бердяев, ? война классовая, ведущаяся из ненависти, а не во имя высших ценностей. В письме “О хозяйстве” Бердяев еще раз подчеркивает аристократическую природу труда и хозяйства, которые не могут обходиться без иерархии. Любое равенство ведет к упадку хозяйственной жизни. Здесь же Бердяев ставит сложную философскую проблему техники и ее негативного влияния на человека. Но технику нельзя отрицать во имя более отсталых форм, ее нужно преодолеть, как дух преодолевает материю.
В письме “О культуре” Бердяев понимает культуру как качество, противовес цивилизации, обозначающей количество. Культуры вечны и индивидуальны. Цивилизация – наоборот. И наконец, в заключительном письме Бердяев обобщает свое понимание истории, ее смысл – искание царства Божия, спасение, а не богостроительство на Земле.
В послесловии, написанном позже, философ предупреждает, что все сказанное им не есть просто реакция, но осмысление происшедшего. Это своего рода поиск Бердяева своего места в системе координат, заданных идеологиями Нового Времени. Совершенно очевидно, что между тремя идеологиями: либерализмом, социализмом и консерватизмом, Бердяев выбирает консерватизм. Это видно хотя бы из того факта, что он, как и все консерваторы, предпочитает не различать либерализм и социализм по существу, а видит в них всего лишь две версии одной, по сути, капиталистической, буржуазной, мещанской, антихристианской и антиконсервативной модели. Тем ни менее, как уже отмечалось , идеологии Нового времени редко фигурируют в так называемом «чистом виде», а чаше представлены в виде миксов. Миксы определяются соседством со смежной идеологией. Так, консерватизм чаще всего фигурирует в двух версиях: либерально-консервативной и социально-консервативной. Анализ «Философии неравенства» показывает, что Николай Бердяев является в чистом виде выразителем именно либерального консерватизма. И это определяется не только непосредственной критикой революции, которая произошла под социалистическими лозунгами, но и всей философской позицией Бердяева, а именно его пониманием (весьма свободным и неортодоксальным) христианства, его персоналистскими (а значит, и часто анархистскими и индивидуалистическими, либеральными) философскими убеждениями.
____________________________
См. Матвейчев О.А. Классификация видов консерватизма. Новая версия. – Тетради по консерватизму. № 2 /2/ 2014 . Фонд ИСЭПИ. Москва. 2014 г. стр. 75-76/
Николай
Бердяев
ФИЛОСОФИЯ
НЕРАВЕНСТВА
ПИСЬМО
СЕДЬМОЕ
О
ЛИБЕРАЛИЗМЕ
Слово либерализм давно уже потеряло всякое обаяние, хотя происходит оно от прекрасного слова свобода. Свободой нельзя пленить массы. Масса не доверяет свободе и не умеет связать её с своими насущными интересами. Поистине, в свободе есть скорее что-то аристократическое, чем демократическое. Это ценность - более дорогая человеческому меньшинству, чем человеческому большинству, обращённая прежде всего к личности, к индивидуальности. В революциях никогда не торжествовал либерализм. Не только в социальных, но и в политических революциях он не торжествовал, ибо во всех революциях поднимались массы. Масса же всегда имеет пафос равенства, а не свободы. И большими революциями всегда двигало начало равенства, а не свободы. Либеральный дух по существу не революционный дух. Либерализм есть настроение и миросозерцание культурных слоев общества. В нём нет бурной стихии, нет огня, воспламеняющего сердца, в нём есть умеренность и слишком большая оформленность. Правда либерализма - формальная правда. Она ничего не говорит ни положительного, ни отрицательного о содержании жизни, она хотела бы гарантировать личности любое содержание жизни. Либеральная идея не обладает способностью превращаться в подобие религии и не вызывает к себе чувств религиозного порядка. В этом слабость либеральной идеи, но в этом и хорошая её сторона. Идеи демократические, социалистические, анархические притязают давать содержание человеческой жизни; они легко превращаются в лжерелигии и вызывают к себе отношение религиозного характера. Но в этом-то и коренится ложь этих идей, ибо в них нет никакого духовного содержания и нет ничего, достойного религиозно-патетического отношения. Прикрепление религиозных чувств к недостойным предметам есть великая ложь и соблазн. И нужно признать, что либерализм не побуждает к этому. Идея демократическая ещё более формальна, чем идея либеральная, но она обладает способностью выдавать себя за содержание человеческой жизни, за особый тип человеческой жизни. И потому в ней скрыт ядовитый соблазн. Идея социалистическая отличается безграничной притязательностью. Она претендует ставить цели человеческой жизни, в то время как она относится к средствам жизни, к материальным её орудиям. Вы давно уже обоготворили и абсолютизировали относительные средства, прикрепили к ним чувства почти религиозного порядка, и цели жизни померкли для вас. Ваша религия общественности, социальности есть религия средств, а не целей. Поистине, во внешней общественности всё относится к средствам; цели же ставятся в большей глубине, цели - духовны, а не общественны. И самая духовная общность людей, сама внутренняя их общественность неопределима внешними критериями общественности. Ибо цели и содержание жизни берутся из духовной глубины и коренятся в божественной действительности. Социальная же среда представляет сложную совокупность средств для осуществления этих целей и этого содержания. Поэтому все социальные идеи оказываются безнадежно и непреодолимо формальными и никогда в них нельзя дойти до подлинного содержания и цели, никогда нельзя уловить в них онтологического ядра.
Есть ли такое онтологическое ядро в либерализме? В людях, слишком поверивших в либеральную идею и исповедующих доктрину либерализма, в либеральных движениях и партиях слишком мало онтологического. Это в большинстве случаев поверхностные люди и поверхностное движение. Но в истоках либеральной идеи есть большая связь с онтологическим ядром жизни, чем в истоках идеи демократической и социалистической. Ибо поистине свобода и права человека, человеческой личности, человеческого духа имеют большую связь с духовными основами жизни, чем всеобщее избирательное право или обобществление орудий производства. Свобода и права человека, неотчуждаемые во имя утилитарных целей, коренятся в глубине человеческого духа. И поскольку либерализм их утверждает, он связан с природой личности, которая имеет онтологическую основу. Либерализм нельзя обосновать позитивистически, его можно обосновать лишь метафизически. По позитивным основаниям человека можно лишить самого священного его права, если это понадобится. Метафизическую природу либерализма хорошо понимал и обосновывал в довольно крайней и односторонней форме Чичерин. Нет оснований признавать неотъемлемую свободу и неотъемлемые права за человеческой личностью, если она не обладает вечной духовной природой, если она есть лишь рефлекс социальной среды. Руссо последовательно признал суверенность общества и принужден был отрицать все неотъемлемые свободы и права человека. Также отрицал эти свободы и права Маркс. Либералы - позитивисты лишь по непоследовательности и по поверхностности своего сознания - готовы признать неотъемлемые свободы и права человека. Духовным источником свободы и прав человека является свобода и право религиозной совести. И в этой точке формальная правда либерализма соприкасается с онтологическим ядром человеческой жизни. Права человека и гражданина имеют свою духовную основу в свободе совести, провозглашенной в английской религиозной революции. Эта истина делается всё более и более общепризнанной. Но глубже ещё неотъемлемые и священные свободы и права человека обоснованы в церкви Христовой, признающей бесконечную природу человеческого духа и защищающей его от неограниченных посягательств внешнего государства и общества. Это - вечная истина Вселенской Церкви, в реформации она получила лишь одностороннее выражение, вызванное сложными историческими условиями. Злоупотребления католичества в его человеческих, слишком человеческих проявлениях (очень преувеличенные) не должны заслонять той истины, что в нём уже заключалось признание бесконечных прав человеческого духа. Реформация всё духовно получила от церкви, но в ущербном виде.
Что истинная свобода человеческой личности христианского происхождения, это видно уже из того, что античный мир не знал личной свободы, а знал лишь свободу публичную. Уже Бенжамен Констан подчеркнул глубокое различие между древним и новым пониманием политической свободы. Это - различие между языческим и христианским сознанием. На почве языческого религиозного сознания можно было понимать свободу так, как понималась она в греческой демократии, но нельзя было понимать её так, как она раскрылась христианскому религиозному сознанию, познавшему бесконечную духовную природу человеческой личности. Учение Руссо было рецидивом языческого сознания. Он не знает личной свободы, не знает духовной природы человека, независимой от общества, не знает её неотъемлемых прав. Он отрицает свободу совести, порабощает совесть человеческую обществу, суверенному народу. И его сознание политической свободы - дохристианское сознание. И все вы, идущие за Руссо, идущие за Марксом, все вы, подменяющие реальную свободу личности призрачной свободой общественной, все вы язычники, все вы отщепенцы христианства. Для вас не существует человека во внутренней, духовной его действительности, а существует лишь человек в его социальных оболочках. Во имя нового бога вашего - суверенного народа - вы лишаете человека всех его прав. Человек имеет глубокую онтологическую связь с такими подлинными реальностями, как церковь, как национальность, как государство. Но что есть онтологического во всеобщем избирательном праве, в социализации промышленности, во всей вашей промышленности, во всем вашем коллективизме? Почему человек должен поступиться своими правами, ограничивать свою природу во имя таких фикций и призраков?
В идеалистическом либерализме были просветы лучшего сознания, было большее внимание к человеческой природе. Но просветы эти были закрыты поверхностным «просветительством» Ибо «просветительство» никогда не просвещает глубоко сознание Свет его - не солнечный свет. Это - искусственный свет лампы, ослабляющий самую потребность в истинном свете. И лучше пройти через полную тьму, через ночь сознания, чтобы почувствовать жажду приобщения к царству подлинного света. Широко распространенная либеральная идеология слишком срослась с этим поверхностным просветительством, и в нём утонули проблески более высокой правды. Либерализм влачит существование, лишенное всех онтологических основ, он живет крохами и клочьями какой-то замутненной правды. И с ним перестали считаться как с самостоятельным явлением духа. Либерализм так основательно выветрился, так обездушился, что можно ещё признавать элементы либерализма, но невозможно уже быть либералом по своей вере, по своему окончательному миросозерцанию. Либерализм перестал быть самостоятельным началом, он сделался каким-то компромиссом, каким-то полудемократизмом или полуконсерватизмом. Он противопоставляет демократической или социалистической вере иную тактику, иные интересы, но бессилен уже противопоставить иную веру, иную идею. Слишком часто делаются либералами те, у кого слаба вера, кто не любит слишком утруждать себя идеями. В либеральном лагере невозможен прозелитизм. Слишком часто сами либералы пасуют перед более радикальными и крайними идеями, склоняются перед типом революционера и себя считают недостойными приобщиться к революционной вере и революционному действию Либерал сделался синонимом умеренного, человека компромисса, оппортуниста. Но можно ли назвать умеренным и оппортунистом того, у кого есть своя идея, иная, чем у социалиста-революционера, своя вера, кто верен до конца своему началу? Либералы обычно нравственно пасуют перед революционерами и бессильны противопоставить им иную, более высокую нравственную правду. Чем объяснить такую выветренность и опустошенность либерализма? Почему угасли в нём проблески правды более высокой, чем та, которая выдвигается демократизмом и социализмом?
«Познайте истину, и истина сделает вас свободными». «Где дух Господень, там и свобода». Вот в какой глубине должно обосновываться начало освободительное. Поистине, христианство хочет освободить человека от рабства, от рабства греху, рабства низшей природе, рабства стихиям этого мира, и в нём должно было бы искать основ истинного «либерализма». Истинное освобождение человека предполагает освобождение его не только от внешнего рабства, но и от внутреннего рабства, от рабства у самого себя, у своих страстей и своей низости. Об этом не подумали вы, просветители-освободители. Вы оставляете человека во внутреннем рабстве и провозглашаете права его, т. е. права рабьей, низшей природы. В основе вашего либерализма был внутренний порок. И потому он не мог не пасть. Либерализм ваш роковым образом изменил своей единственной возможной духовной основе. Вы сделали декларацию прав человека и оторвали её от декларации прав Бога. В этом был ваш первородный грех, за который вы наказаны. Выше автономии стоит теономия. Это глубоко поняла французская католическая школа начала XIX века с Ж. де Мэстром во главе. И школа эта потребовала провозглашения забытых прав Бога, требовала этой священной декларации до забвения неоспоримых прав человека. Потому что вы забыли о правах Бога, вы забыли и о том, что декларация прав человека должна быть связана с декларацией обязанностей человека. Путь, на котором права человека были оторваны от обязанностей человека, не довел вас до добра. На этом пути выродился ваш либерализм. Требования прав без сознания обязанностей толкало на путь борьбы человеческих интересов и страстей, состязание взаимоисключающих притязаний. Права человека предполагают обязанность уважать эти права. В осуществлении прав человека самое важное не собственные правовые притязания, а уважение к правам другого, почитание в каждом человеческого образа, т. е. обязанности человека к человеку и человека к Богу. Обязанности человека глубже прав человека, они и обосновывают права человека. Право вытекает из обязанности. Если все будут очень сильно сознавать права и очень слабо сознавать обязанности, то права никем не будут уважаться и не будут реализованы. И права человека, и обязанности человека коренятся в его богоподобной природе. Если человек - лишь подобие природной и социальной среды, лишь рефлекс внешних условий, лишь дитя необходимости, то нет у него ни священных прав, ни священных обязанностей, то у него есть лишь интересы и притязания. Права человека предполагают права Бога, это прежде всего права Бога в человеке, права божественного в человеке, его богоподобия и богосыновства. Человек потому лишь имеет бесконечные права, что он бесконечный дух, что глубина его входит в божественную действительность. Личность человеческая не довлеет себе, она предполагает бытие Бога и божественных ценностей. Возможно ли провозглашение священных прав человека, как усовершенствованного и дисциплинированного зверя, как куска праха, в котором на мгновение загорелась жизнь? Права человека должны иметь онтологическую основу, они предполагают и бытие души человеческой в вечности, и бытие, бесконечно превышающее эту душу, бытие Божие. Об этом забывает ваш просвещенный либерализм и ваш радикализм. И потому он должен был выветриться, он не мог осуществить никаких прав человека. Отвлеченный, доктринерский либерализм, претендующий опереться на собственную пустоту, есть невыносимая ложь, и против него должны подняться движения, искавшие реального содержания социальной жизни.
Либеральная идеология зародилась в умственной атмосфере XVIII века, которая склонна была утверждать естественную гармонию. Эта идеология проникнута верой в естественную гармонию свободы и равенства, во внутреннее родство этих начал. Французская революция совершенно смешивала равенство со свободой. Весь XIX век разбивал иллюзии естественной гармонии, он жизненно раскрыл непримиримые противоречия и антагонизмы. Обнаружилось, что равенство несет с собой опасность самой страшной тирании. Обнаружилось, что свобода нисколько не гарантирует от экономического рабства. Отвлеченные начала свободы и равенства не создают никакого совершенного общества, не гарантируют прав человека. Между свободой и равенством существует не гармония, а непримиримый антагонизм. Вся политическая и социальная история XIX века есть драма этого столкновения свободы и равенства. И мечта о гармоническом сочетании свободы и равенства есть неосуществимая рационалистическая утопия. Никогда не может быть замирения между притязаниями личности и притязаниями общества, между волей к свободе и волей к равенству. Отвлеченный либерализм так же бессилен разрешить эту задачу, как и отвлеченный социализм. Это - квадратура круга. В плане позитивном и рациональном задача эта неразрешима. Всегда будет столкновение безудержного стремления к свободе с безудержным стремлением к равенству. Жажда равенства всегда будет самой страшной опасностью для человеческой свободы. Воля к равенству будет восставать против прав человека и против прав Бога. Все вы, позитивисты-либералы и позитивисты-социалисты, очень плохо понимаете всю трагичность этой проблемы. Свобода и равенство несовместимы. Свобода есть прежде всего право на неравенство . Равенство есть прежде всего посягательство на свободу, ограничение свободы. Свобода живого существа, а не математической точки, осуществляется в качественном различении, в возвышении, в праве увеличивать объем и ценность своей жизни. Свобода связана с качественным содержанием жизни. Равенство же направлено против всякого качественного различия и качественного содержания жизни, против всякого права на возвышение. Один из самых замечательных и тонких политических мыслителей XIX века, Токвиль, первый ясно сознал трагический конфликт свободы и равенства и почуял великие опасности, которые несет с собой дух равенства. «Я думаю, - говорит этот благородный мыслитель, - что легче всего установить абсолютное и деспотическое правительство у народа, у которого общественные состояния равны, и полагаю, что если подобное правительство раз было установлено у такого народа, то оно не только притесняло бы людей, но с течением времени отнимало бы у каждого из них многие из главнейших свойств, присущих человеку. Поэтому мне кажется, что деспотизма всего более следует опасаться в демократические времена». Этот благородный ужас перед нивелировкой, перед европейской китайщиной был и у Д. С. Милля. И его беспокоила судьба человеческой личности в демократическом обществе, одержимом духом равенства. Иллюзии XVIII века, иллюзии французской революции были разбиты. Свобода расковывает безудержную волю к равенству и таит в себе семя самоотрицания и самоистребления. Либерализм порождает демократию и неудержимо переходит в демократизм. Таково его последовательное развитие. Но демократия истребляет самые основы либерализма, равенство пожирает свободу. Это обнаружилось уже в ходе французской революции. 93 год истребил декларацию прав человека и гражданина 89 года. Это процесс фатальный. Противоречие между свободой и равенством, между правами личности и правами общества непреодолимо и неразрешимо в порядке естественном и рациональном, оно преодолимо и разрешимо лишь в порядке благодатном, в жизни церкви. В общении религиозном, в обществе церковном снимается противоположность между личностью и обществом, в нём свобода есть братство, свобода во Христе есть братство во Христе. Духовная соборность разрешает эту квадратуру круга. В ней нет различия между правом и обязанностью, нет противоположения. Но в церковном обществе нет механического равенства, в нём есть лишь братство. И свобода в нём не есть противоположение себя другому, ближнему своему. Религиозное общение основано на любви и благодати, которых не знает ни либерализм, ни демократизм. И потому разрешаются в нём основные антиномии человеческой жизни, жесточайшие её конфликты.
Внутреннее развитие либерализма ведет к демократическому равенству, которое становится в неизбежное противоречие со свободой. Но и с другой стороны либерализм подвергается опасности разложения и вырождения. В либеральной идее, самой по себе, нет ещё ничего «буржуазного». Нет ничего «буржуазного» в свободе. Я с отвращением употребляю ваши излюбленные слова, пошлые и поверхностные, лишенные всякого онтологического смысла. Я не думаю, чтобы вы знали, что такое «буржуазность», и имели право говорить о ней. Вы ведь сами целиком в ней пребываете. Но нельзя не признать, что господство отвлеченного либерализма в жизни экономической дало свои отрицательные и злые плоды. Если манчестерство и имело относительное оправдание в известный исторический момент, то в дальнейшем неограниченное господство его лишь компрометировало и разлагало либеральную идею. Ничем не ограниченный экономический индивидуализм, отдающий всю хозяйственную жизнь целиком во власть эгоистической борьбы и конкуренции, не признающей никакого регулирующего принципа, не имеет как будто никакой обязательной связи с духовным ядром либерализма, т. е. с утверждением прав человека. Несостоятельность так называемого экономического либерализма давно уже выяснилась. И вокруг идеи либерализма образовалась атмосфера, насыщенная неприятными ассоциациями. Вообще ведь идеи, и даже не столько идеи, сколько слова, их выражающие, подвержены порче. Человеческие интересы способны исказить и загрязнить и самые высокие слова, связанные с жизнью религиозной. Слово «либерализм» принадлежит к разряду очень порченых слов. Но много ли осталось слов не порченых, во многих ли словах наших осталась ещё светоносная, действенная энергия? Порча либерализма началась со смешения целей и средств, с подмены духовных целей жизни материальными средствами. Свобода человека, права человека есть высокая духовная цель. Всякий политический и экономический строй может быть лишь относительным и временным средством для осуществления этой цели. Когда либерализм видит в свободе человека и неотчуждаемых правах его высокую цель, он утверждает неполную, но несомненную истину. Но когда он начинает временным и относительным политическим и экономическим средствам придавать почти абсолютное значение, когда в исканиях новых форм социальной организации он начинает видеть недопустимое нарушение своей отвлеченной доктрины, он вырождается и разлагается. На этой почве создались очень сложные и запутанные отношения между либерализмом и социализмом, которые нельзя выразить в отвлеченной формуле.
Вы любите противополагать либерализм и социализм как два вечно враждующих и несовместимых начала. Это так же относительно верно, как и все отвлеченные формулы. Идеология либеральная и идеология социалистическая образовались вокруг разных жизненных задач, пафос их имеет разные источники. Воля к свободе породила либеральную идеологию. Идеологию социалистическую породила воля к обеспечению хлеба насущного, к удовлетворению элементарных жизненных потребностей. И если либералами делаются те, у кого элементарные жизненные потребности удовлетворены и обеспечены и кто хочет свободно раскрыть свою жизнь, то социалистами делаются те, кому нужно ещё удовлетворение более элементарных жизненных требований. В перспективе индивидуальной социализм элементарнее либерализма. В перспективе же общественной это соотношение обратное. В принципе как будто бы мыслим либеральный социализм и социалистический либерализм. Либерализм не имеет никакой обязательной идейной связи с манчестерством, с экономическим индивидуализмом, эта связь - случайно-фактическая. Либерализм вполне совместим с социальным реформаторством, он может допускать всё новые и новые средства и методы для обеспечения свободы и прав человека. Либеральная декларация прав носит формальный характер и допускает какое угодно социальное содержание, если оно не посягает на права человека, признанные неотъемлемыми. Известного рода реформаторский социализм даже более совместим с идеальными основами либерализма, чем с крайними формами демократии, не имеющей социального характера. С другой стороны, возможен либеральный социализм. Социализм реформаторского типа может основываться на либеральных принципах, может мыслить социальное реформирование общества в рамках декларации прав человека и гражданина. Либерализм впитывает в себя элементы социализма. Социализм же делается более либеральным, более считается не только с экономическим человеком, но и с человеком, обладающим неотъемлемыми правами на полноту индивидуальной жизни, правами духа, не подлежащими утилитарным ограничениям. Но либеральный, реформаторский социализм не есть, конечно, настоящий социализм. Важнее всего признать, что либерализм и социализм - относительные и временные начала. Вера либеральная и вера социалистическая - ложная вера.
Либеральное начало есть одно из начал человеческой жизни, но оно не может быть утверждаемо как начало единственное и безраздельно господствующее. Само по себе взятое, оно оказывается оторванным от онтологической основы. Либерализм должен сочетаться с более глубоким, не внешним консерватизмом, равно как и с социальным реформизмом. Религиозно либерализм есть протестантизм. В либеральной свободе есть доля истины, как есть она и в протестантской религиозной свободе. Но протестантизм отрывается от онтологических основ церкви, он утверждает начало религиозной свободы отвлеченно, не в полноте религиозной жизни. То же происходит и с либерализмом. Либерализм отрывается от онтологических основ общественности, он утверждает начало политической свободы отвлеченно, не в полноте человеческой жизни. И подобно тому, как религиозная свобода, свобода религиозной совести должна быть возвращена к своим онтологическим основам, к полноте церковной жизни, свобода и права человека должны быть возвращены к своим онтологическим основам, к полноте духовной жизни человека. Философский либерализм, как отвлеченный тип мысли, склонен отрицать реальные общности и целости, онтологическую реальность государства, нации, церкви и признавать общество лишь взаимодействием личностей.
Чисто либеральная идеология переносит всё в личность как в единственную реальность. Но этим номинализмом подрывается в конце концов и реальность самой личности. Ибо реальность личности предполагает другие реальности. Об этом не раз уже было мною говорено. Рационалистический либерализм отрицает существование онтологической иерархии. Но этим отрицает он и личность как члена иерархии реальностей. Либерализм вырождается в формальное начало, если он не соединяется с началами более глубокими, более онтологическими. Индивидуалистический либерализм отрывает индивидуум от всех органических исторических образований. Такого рода индивидуализм опустошает индивидуум, вынимает из него всё его сверхиндивидуальное содержание, полученное от истории, от органической принадлежности индивидуума к его роду и родине, к государству и церкви, к человечеству и космосу. Либеральная социология не понимает природы общества. Либеральная философия истории не понимает природы истории.
Либерализм, как целое настроение и миросозерцание, - антиисторичен, столь же антиисторичен, как и социализм. И с этой стороны ждет его суровый суд. Все более глубокие попытки обоснования либерализма упираются в идею естественного права. Естественное право пытались обосновать идеалистически. Но учение об естественном праве связано с верой в «естественное состояние». Естественное право противополагается историческому праву, как естественное состояние противополагается историческому состоянию, исторической действительности. Все учения об естественном праве давно уже подвергнуты беспощадной критике. От них не осталось камня на камне. Идеалистическое возрождение естественного права и попытки дать ему нормативное основание с помощью философии Канта не доходят до последней глубины, до онтологических основ. Неотъемлемые и священные права человека не могут быть названы «естественными» его правами, правами «естественного состояния». И напрасно вы идеализируете природу человека, напрасно вы хотите опереться на нее в стремлении к лучшей жизни. «Исторический» человек всё же лучше «естественного» человека, и расковывание человека «естественного» порождает лишь зло. «Историческое» состояние выше «естественного» состояния, «историческое» право выше «естественного» права. Неотъемлемые и священные права имеет человек не как «естественное» существо, а как существо духовное, его благодатно-возрождённая, усыновленная Богу природа. А это значит, что глубокого обоснования прав человека следует искать не в «естестве», а в церкви Христовой. Бесконечное право человеческой души есть не «естественное», а «историческое» право христианского мира. Человеческая душа, открытая христианством, не есть «естественное состояние» человека, ибо в «естественном состоянии» она была глубоко задавлена и закрыта. Человеческая душа раскрылась из глубины в христианскую историческую эпоху, и раскрытие это предварялось лишь в античных мистериях и в платоновской философии. Крупица правды либерализма почерпнута из этого высшего источника. Ваша же философия «естественного состояния» и «естественного права» поверхностна. Более глубока философия «исторического состояния» и «исторического права». Вера в совершенное «естественное состояние» давно уже рухнула, она не выдерживает критики ни сознания научного, ни сознания религиозного. Человек по «естеству» своему не добр и не безгрешен. Все «естество» во зле лежит. В «естественном» порядке, в «естественном» существовании царит вражда и суровая борьба. Порядок «исторический» есть более высокое состояние бытия, чем порядок «естественный». Гуманизм лживо смешал человека «естественного» с человеком духовным, благодатно возрожденным и богоусыновлённым, и в пределе своем привел к отрицанию человека. Вы, люди XX века, должны были бы окончательно освободиться от остатков XVIII века, от навязчивых идей позапрошлого века. Нет никакого «естественного» состояния, нет никакого «естественного» права, нет и быть не может никакой «естественной» гармонии. Уже XIX век должен был вас обратить к «историческому», к глубине исторической действительности. И поскольку либерализм противополагает себя «историческому» и обосновывает себя на «естественном», он вырождается в отвлеченной пустоте. «Историческое» - конкретно, «естественное» же есть абстракция. В «историческом», в исторических органических целостях побеждается грех и зло «естественного» состояния. Выше «исторического» состояния и «исторического» права стоит «духовное» состояние и «духовное» право.
Вера в идеал либерализма уже стала невозможной. Все слишком изменилось и усложнилось с того времени, как была ещё свежа эта вера. Слишком ясно, что вера эта была основана на ложном учении о человеческой природе, на нежелании знать её иррациональные стороны. Мы не очень уже верим в конституции, не можем уже верить в парламентаризм как панацею от всех зол. Можно признавать неизбежность и относительную иногда полезность конституционализма и парламентаризма, но верить в то, что этими путями можно создать совершенное общество, можно излечить от зла и страдания, уже невозможно. Ни у кого такой веры нет. И последние доктринеры либерального конституционализма и парламентаризма производят жалкое впечатление. Парламентаризм на Западе переживает серьезный кризис. Чувствуется исчерпанность всех политических форм. И поскольку либерализм слишком верит в политическую форму, он не стоит на высоте современного сознания. Также не стоит на высоте современного сознания социализм, поскольку он слишком верит в экономическую организацию. Все эти веры - остатки старого рационализма. Рационализм основан был на сужении человеческого опыта, на неведении той иррациональной человеческой природы, которая делает невозможной полную рационализацию общества. Люди нового века не могут уже верить в спасительность политических и социальных форм, они знают всю их относительность. Все политические начала относительны, ни одно из них не может претендовать на исключительное значение, ни одно не может быть единоспасающим средством. Вера в конституцию - жалкая вера. Конституции можно устраивать согласно требованиям исторического дня, но верить в них бессмысленно. Вера должна быть направлена на предметы более достойные. Делать себе кумир из правового государства недостойно. В этом есть какая-то ограниченность. Правовое государство - вещь очень относительная. И если есть в либерализме вечное начало, то искать его следует не в тех или иных политических формах, не в той или иной организации представительства и власти, а в правах человека, в свободах человека. Права и свободы человека безмерно глубже, чем, например, всеобщее избирательное право, парламентский строй и т. п., в них есть священная основа. Но именно поэтому права и свободы человека требуют более глубокого обоснования, чем то, которое дает им либерализм, обоснования метафизического и религиозного. Частичная правда либерализма - свобода религиозной совести, а основа её - в Христе и Его церкви, в свободе церкви от притязаний «мира», так как лишь в церкви Христовой раскрывается бесконечная природа человеческого духа. Вне христианства притязание мирского государства и мирского общества по отношению к человеческой личности были бы безграничны. Кровью христианских мучеников завоевана свобода человеческого духа. Об этом следовало бы помнить вам - мнящим себя освободителями. Но вы хотели бы освободить человека и от церкви Христовой, которая есть царство свободы, и этим вы отдаете человека безраздельно во власть природной необходимости.
В наше время редко можно встретить чистого либерала, выразителя отвлеченного либерального начала. Обычно либерализм бывает очень осложнен и сочетается с разными другими началами. В либеральной чистоте и пустоте невозможно удержаться. Или либерализм бывает осложнен началами консервативными, и тогда он более глубок и крепок. Или он бывает осложнен расплывчатыми демократическими, социалистическими и анархическими началами, и тогда он порождает пошлый и рыхлый тип радикала. Вы, радикалы, - самая ненужная в мире порода людей, самая поверхностная, самая промежуточная, живущая на чужой счет, а не на свой собственный. Вы живете чужими, более левыми, революционными идеями, которым бессильны противиться и бессильны отдаться, которым бессильно завидуете. И вы не можете быть для человечества даже тем трагическим уроком, тем поучительным опытом, каким являются настоящие революционеры, социалисты и анархисты. Вы, радикалы-либералы, не имеете тех твердых начал, которые готовы были бы до конца защищать, которые могли бы противопоставить напору слева стихий разрушительных. В этом бессилии чувствуются плоды либерализма, не имеющего онтологических основ. Вы никогда не уверены, есть ли онтологические основы в государстве, в нации, во всех исторических целостях. И вас сносят течения более крайние и решительные, более верующие и фанатические. Вы, либералы-радикалы, - скептики по своему духовному типу и потому не можете двигать истории. Ложной вере должна быть противопоставлена истинная вера, а не безверие и скептицизм. Безверие и скептицизм, раздвоенность, оглядка по сторонам, жизнь на чужой счет, на счет чуждых идей за неимением собственных - роковые свойства радикала. Вот почему либерал-консерватор стоит выше, чем либерал-радикал, он более принципиален, он знает, что противопоставить чужим идеалам. Либерализм, как самодовлеющее отвлеченное начало, отстаивающее свободу личности, легко переходит в анархизм. Анархизм этот бывает очень невинным, очень идеальным, совсем не разрушительным, но и очень бессильным. Таким либералом-анархистом является например Спенсер. Таким был В. Гумбольдт.
Это выражается в желании довести государство до крайнего минимума и постепенно его совсем упразднить, в непонимании самостоятельной природы государства. В таком либеральном анархизме нет настоящего пафоса и нет действенности, он носит теоретический и кабинетный характер. Но этот анархический уклон внутренне расслабляет либерализм. Все пороки и слабости либерализма связаны с тем, что он весь ещё пребывает в формальной свободе ветхого Адама и не знает материальной содержательной свободы нового, духовно возрожденного Адама.
[Н.А.Бердяев ]|[«Философия неравенства» - Оглавление
][Библиотека
«Вехи» ]
©
2001, Библиотека «Вехи»
В центре творчества Н.А. Бердяева (1874-1948), одного из крупных русских религиозных философов XX в., стоялапроблема свободы. Он называл себя "сыном свободы" и подчеркивал: "Я основал свое дело на свободе"".
Данная тема, а вместе с ней и вся социальная проблематика, включая вопросы права и государства, освещается Бердяевым с позиций разработаннойим оригинальной философской концепции христианского персонализма. Отмечая экзистенциалистский и эсхатологический характер своей философии, Бердяев писал: "Я верю лишь в метод экзистенционально-антропоцентрический и духовно-религиозный" 2 .
К этим взглядам Бердяев пришел не сразу. В молодые годы он находился под влиянием марксизма и за пропаганду социализма был сослан в Вологодскую губернию. Затем он переходит на религиозные позиции и становится одним из активных участников (вместе с Д.С. Мережковским, В.В. Розановым и др.) русского общественно-религиозного движения начала XX в. Но и после отхода от марксизма (ортодоксальным марксистом, материалистом и сторонником "марксизма тоталитарного" он никогда не был) Бердяев продолжал признавать "правду социализма" в своей христианско-пер-соналистской трактовке. Этих позиций он придерживался и в эмиграции после высылки его из страны в 1922 г. вместе с большой группой деятелей русской культуры.
Оценивая свой подход к социальным проблемам, Бердяев писал: "Основное противоречие моего мнения о социальной жизни связано с совмещением во мне двух элементов - аристократического понимания личности, свободы и творчества и социалистического требования утверждения достоинства каждого человека, самого последнего из людей и обеспечения его права на жизнь. Это есть также столкновения влюбленности в высший мир, в высоту и жалости к низинному миру, к миру страдающему. Это противоречие вечное. Мне одинаково близки Ницше и Лев Толстой. Я очень ценю К. Маркса, но также Ж. де Местра и К. Леонтьева, мне близок
" Бердяев НА. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // О назначении человека. М., 1993 С 254. 2 Там же.
и мною любим Я. Беме, но также близок Кант. Когда уравнительная тирания оскорбляет мое понимание достоинства личности, мою любовь к свободе и творчеству, я восстаю против нее и готов в крайней форме выразить свое восстание. Но когда защитники социального неравенства бесстыдно защищают свои привилегии, когда капитализм угнетает трудящиеся массы, превращая человека в вещь, я также восстаю. В обоих случаях я отрицаю основы современного мира" 1 .
В своем персоналистическом учении о свободе человека Бердяев отличаетличность от индивида. Индивид есть категория натуралистическая, биологическая, социологическая, а личность - категория духовная. Именно в качестве личности человек есть микрокосм, универсум, а не часть или атом какого-то внешнего целого (космоса, общества, государства и т. д.). "Личность, - подчеркивает Бердяев, - есть свобода и независимость человека в отношении к природе, к обществу, к государству, но она не только не есть эгоистическое самоутверждение, а как раз наоборот. Персонализм не означает, подобно индивидуализму, эгоцентрической изоляции. Личность в человеке есть его независимость по отношению к материальному миру, который есть материал для работы духа. И вместе с тем личность есть универсум, она наполняется универсальным содержанием" 2 .
Личность, согласно Бердяеву, представляет собой универсум в индивидуально неповторимой форме. Она есть соединение универсально-бесконечного и индивидуально-особого. Личность - не готовая данность, а задание, идеал человека. Личность самосоздается. Ни один человек, замечает Бердяев, не может про себя сказать, что он вполне личность. "Личность есть категория аксиологи-ческая, оценочная" 3 . Личность должна совершать самобытные, оригинальные, творческие акты, и только это делает ее личностью и составляет ее единственную ценность. Если индивид более детерминирован и поэтому в своем поведении "больше подчинен общеобязательному закону", то "личность иррациональна", она "должна быть исключением, никакой закон не применим к ней" 4 . "Поэтому, - замечает Бердяев, - личность есть элемент революционный в глубоком смысле слова" 5 .
" Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналястической философии // Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995. С. 5.
2 Там же. С. 21 С позиций философии права уместно отметить, хотя самБердяев об этом нигде не говорит, что понимание и определение свободного и независимого человека как персоны, лица, личности, лежащее в основе бердяевского (и иных версий) персонализма, восходит к римским юристам и относится к началам юриспруденции. Правда, Бердяев трактует эту свободу личности универсально, а не юридически, хотя в определенном аспекте - и в ее связи с юридической проблемой прав и свобод человека.
3 Там же. С. 13. « Там же. С. 14, 22. 5 Там же. С. 22.
С позиций своей экзистенциальной философии и персонали-стической этики Бердяев подчеркивает, что личность есть субъект, а не объект среди объектов и не вещь среди вещей: "она вкоренена во внутреннем плане существования, т. е. в мире духовном, в мире свободы"". Личность - это "субъект среди субъектов, и превращение ее в объект и вещь означает смерть. Объект всегда злой, добрым может быть лишь субъект" 2 .
Этим злом, рабством и несвободой, согласно Бердяеву, отмечен и пронизан весь посюсторонний, объективный мир (включая всю социально-политическую действительность, общество, государственность, законодательство и т. д.) - в его принципиальной противоположности трансцендентному духовному (и божественному) миру свободы.
Естьдва пути выхода человека из своей замкнутой субъективности.Путь объективации, т. е. выход в общество с его общеобязательными формами, институтами, нормами и т. д., - это потеря личности, отчуждение человеческой природы, выброс человека в объективный мир зла, несвободы, несправедливости и рабства - рабства человека у бытия, у бога, у природы, у цивилизации, у общества, у государства, у собственности и денег, у коллективизма, национализма и войны.
Второй,духовный путь, т. е. реализация личности в человеке, это путь самопреодоления, постоянного трансцендирования, переход к транссубъективному (а не объективному) миру - к экзистенциальной встрече с Богом, с другим человеком, с внутренним существованием мира, к экзистенциальному общению и коммюнотарной общности (противоположной объективному обществу). "Отношение личности к сверхличным ценностям, - поясняет Бердяев, - может совершиться или в царстве объективации - и тогда легко порождается рабство, - или в царстве экзистенциальном, в транс-цендировании - и тогда порождается жизнь в свободе... В объективации человек находится во власти детерминации, в царстве безличности, в трансцендировании человек находится в царстве свободы, и встреча человека с тем, что его превосходит, носит личный характер, сверхличное не подавляет личности. Это - основоположное различение" 3 .
Такое равенство личностей между собой имеет место и в принципе возможно лишь в праве, в правовых отношениях различных личностей.Откуда (если не из правовой сферы) берется равенство субъектов в бердяевском персонализме, остается без адекватного ответа.
Всякая личность, согласно персоналистической этике Бердяева, - это самоценность и самоцель. И отношение личности к
" Там же. С. 15. 2 Там же.
Там же. С,
Раздел V. История философии права и современность
личности, хотя бы к высочайшей личности Бога, не может быть отношением средства к цели: все, что унижает человека (например, превращение человека в средство для какой-либо сверхличной ценности, в орудие божественной силы и т. д.), унижает и Бога.
"Экзистенциальный центр" мира находится в субъективности, и даже "солнце экзистенциально находится не в центре космоса, а в центре человеческой личности, и оно экстериоризировано лишь в падшем состоянии человека"". И Бог не находится в плане объективации, не есть находящаяся вне и над личностью объективная реальность и объективация универсальной идеи, а существует лишь как личность в экзистенциальной встрече с ним, в трансцендирова-нии. Объективация же (и объективный мир) всегда враждебна личности и антиперсоналистична.
Разного рода сверхличные, коллективные личности (общество, государство и т. д.) - это, по Бердяеву, иллюзии, порождения объективации и отчуждения человеческой природы. "Объективных личностей, - подчеркивает он, - нет, есть лишь субъективные личности. И в каком-то смысле собака и кошка более личности, более наследуют вечную жизнь, чем нация, общество, государство, мировое целое" 111 .
Обосновывая свою концепциюантииерархического персонализма, Бердяев отвергает различные формы иерархического персонализма, согласно которому иерархически организованное целое состоит из личностей разных иерархических ступеней, причем каждая личность подчинена высшей ступени, входит в нее в качестве подчиненного органа или части. Антиперсоналистический характер, по его оценке, носят также дионисизм, теософия, антропософия, коммунизм, фашизм, связанный с капиталистическим строем либерализм, да и все другие концепции (монархические, демократические и т. д.) общественно-государственной жизни в этом объективном, обезличенном мире.
Объективный, исторически данный мир рабства и несвободы (общество, государство, закон и т. д.) - этоцарство Кесаря, которому принципиально противостоит сверхисторическоецарство Духа и свободы человека. Мучительный разрыв и раздвоение человека (в качестве индивида и в качестве личности) между этими двумя мирами "найдут себе разрешение в новой мистике, которая глубже религии и должна объединить религии. Это вместе с тем будет победа над ложными формами социальной мистики, победа царства Духа над царством Кесаря" 3 . Подобный мистический выход к свободе (благодаря обосновываемой Бердяевым сверхисторической про-
1 Там же. С. 25,
3 Там же. С. 356.
Глава 4. Философия права в России
роческой, мессианской, эсхатологической мистике) должен быть обращен к миру и людям и стать методом и средством очищения мира для его продвижения к новой духовности.
Такой исход из современного кризиса является, по словам Бердяева, единственно желанным, поскольку онобращен к свободе человека и означает "внутреннее преодоление хаоса, победу духа над техникой, духовное восстановление иерархии ценностей, соединенное с осуществлением социальной правды"". Два других исхода Бердяев (в конце 40-х годов) характеризовал следующим образом: "1) Исход фатальный. Продолжающееся распадение космоса, космоса природного и космоса социального, продолжающийся разлагаться капиталистический режим, торжество атомной бомбы, хаотический мир.., хаос не изначальный, не начала, а хаос конца, война всех против всех. Это гибель мира, и мы не можем его допустить. 2) Насильственный, механический порядок коллектива, организованность, не оставляющая места свободе, деспотизация мира. Это также трудно допустить" 2 . Но до сих пор, писал Бердяев, преобладает смешение этих двух исходов.
Резко критикуя царство Кесаря (государственность прошлого и современности) за подавление свободы, за насильственный способ управления людьми, авторитаризм и тоталитаризм, Бердяев распространяет эту критику и натеократии прошлого, которые тоже относятся им к царству Кесаря. С этих позиций он отвергает и идею "христианского государства", поскольку и оно неизбежно будет не царством Духа, а миром безличной объективации, выродится впапоцезаризм или вцезарепапизм. В противовес всякой государственности он призывает перейти к общине иобщинной жизни, к федерации таких общин.
Подобную общинность он именуеткоммюнотарностью, которая - в отличие от современного обезличенного и авторитарного общественно-государственного типа отношений и соответствующего коллективизма - "означает непосредственное отношение человека к человеку через Бога как внутреннее начало жизни" 3 . Характеризуярелигиозную коммюнотарность как соборность, Бердяев утверждает: "Соборность-коммюнотарность не может означать никакого авторитета, она всегда предлагает свободу" 4 .
Такая соборность-коммюнотарность призвана, согласно бердя-евской концепции"христианского социализма", содействовать реализации "религиозной правды социализма" - "необходимости победить эксплуатацию труда", возвышению "достоинства труда" 6 и трудящихся, становлению духовно нового человека. Вместе с тем
1 Там же. С. 323
3 Там же. С. 332. * Там же. С. 333. s Там же. С. 352.
Раздел V. История философии права и современность
эта соборность-коммюнотативность выступает как "борьба за большую социальную справедливость"" в самом этом царстве Кесаря. "Окончательная победа царства Духа, которая ни в чем не может ^ быть отрицанием справедливости, - замечает Бердяев, - предполагает изменение структуры человеческого сознания, т. е. преодоление мира объективации, т. е. может мыслиться лишь эсхатологически. Но борьба против власти объективации, т. е. власти Кесаря, происходит в пределах царства объективации, от которого человек не может просто отвернуться и уйти" 2 .
Итак, хотяв этом царстве Кесаря и не может быть подлинной свободы и справедливости, однако несмотря ни на что каждый человек по духовной природе своей призванстать личностью и бороться за расширение и утверждениевозможно большей свободы и справедливости в этом мире, приближая тем самым царство Духа.
Такое понимание смысла и судеб свободы в объективном мире лежит в основе и бердяевской трактовки проблем соотношения права и закона, права и государства.
Центральное место в бердяевской концепции правопонимания занимает положение обабсолютных и неотчуждаемых правах человека, имеющих божественное (и духовное) происхождение и идущих от Бога, а не от природы, общества, государства. Корни этого права в том, что "от Бога происходит лишь свобода, а не власть" 3 .
Государство же, по этой версии христианского персонализма, было создано в грешном мире актом насилия, и оно лишь терпимо Богом. В силу своего нехристианского происхождения и нехристианской сущности, несвященного и неблагодатного характера государство (царство Кесаря) находится в трагическомконфликте и борьбе с личностью, свободой, царством Духа. Трагизм этот состоит, по Бердяеву, в том, что, с одной стороны, личность не может в этом грешном и злом мире объективации жить без государства и поэтому признает его некоторую ценность и готова действовать в нем, неся жертвы. С другой стороны, личность неизбежно восстает против государства, этого "холодного чудовища" 4 , которое давит всякое личное существование.
В иерархии ценностейценность личности выше ценности государства: личность принадлежит вечности, несет в себе образ
" Там же. С. 355.
3 Там же. С. 313-314. В данной связиБердяев весьма вольно (в интересах своей концепции христианского персонализма и эсхатологического анархизма) трактовал известные слова апостола Павла "Нет власти не от Бога" в том смысле, что они "никакого религиозного значения не имеют, - их характер чисто исторический и относительный, вызванный положением христиан в Римской империи". - Там же. С.311.
4 Бердяев Н.А. О назначении человека. С. 174. Такую характеристику государства Бердяев использовал вслед заФ. Ницше.
Глава 4. Философия права в России
и подобие Бога, идет к Царству Божьему и может войти в него, а государство лишено всего божественного и принадлежит времени и никогда не войдет в Царство Божье. И хотя личность и государство пребывают в различных кругах бытия, но эти круги "соприкасаются в небольшом отрезке"". Речь идет о столкновениисвободы и власти: поскольку свобода - это прежде всего свобода личности, личность выступает как отрицание (и, следовательно, как рубеж, граница) всякой несвободы, всякой внешней, объективной власти, как "граница власти природы, власти государства, власти общества" 2 .
В таком столкновении, по Бердяеву, друг другу противостоят.абсолютные неотчуждаемые права человека и суверенитет государства или любой другой власти. Данную коллизию он решает в пользу верховенства личности и ее неотчуждаемых прав с позиций всеобщего и последовательногоотрицания суверенитета любой власти в этом мире. "Никакой суверенитет земной власти, - подчеркивает Бердяев, - не может быть примирим с христианством:
ни суверенитет монарха, ни суверенитет народа, ни суверенитет класса. Единственный примиримый с христианством принцип есть утверждение неотъемлемых прав человека. Но с этим неохотно примиряется государство. И сам принцип прав человека был искажен, он не означал прав духа против произвола кесаря и означал не столько права человека как духовного существа, сколько права гражданина, т. е. существа частичного" 3 .
Неотчуждаемые права человека выступают в трактовке Бердяева как форма выражения и существования в земном мире (царстве Кесаря)личной свободы, т. е. трансцендентного (и божественного) феномена из царства Духа. Именно христианство, по оценке Бердяева, открыло в человекедуховное начало, которое не зависит от мира, от природы и общества, а зависит от Бога. Тем самым оно совершило величайшую духовную революцию, духовно освободило человека от неограниченной власти общества и государства. В этом, по его оценке, и состоитистина христианского персонализма.
Любое государство, если оно не имеет тоталитарных претензий, должно лишь признатьсвободу человеческой личности, которая изначально принадлежит человеку как духовному существу, а не дана ему какой-то внешней властью. "Эта основная истина о свободе, - отмечает Бердяев, - находила свое отражение в учении о естественном праве, о правах человека, не зависящих от государства, о свободе не только как свободе в обществе, но и свободе от общества, безграничного в своих притязаниях. Бенжамен Констан видел в этом отличие понимания
2 Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. С. 327. 2 Там же. С. 312.
Раздел V. История философии права и современность
свободы в христианский период истории от понимания ее в античном греко-римском мире"". В этой связи Бердяев ссылается и насредневековое христианское сознание, которое, опираясь на абсолютное, божественное по своему происхождению, значение естественного права, не признавало безусловного подчинения подданных власти, допускало сопротивление тиранической власти и даже тираноубийство. "Средневековье, - отмечает он, - признавало в ряде христианских теологов, философов и юристов врожденные и неотъемлемые права индивидуума (Гирке). В этом средневековое сознание стояло выше современного. Но сознание это было противоречивым. Признавалась смертная казнь еретиков. Рабство считалось последствием греха вместо того, чтобы считать его грехом" 2 .
Также и французская Декларация прав человека и гражданина, отмечает Бердяев, есть "изъявление воли Бога":"Декларация прав Бога и декларация прав человека есть одна и та же декларация" 3 .
Положительно оценивая и акцептируя сами идеи о неотчуждаемых правах человека, развитые в религиозных учениях о естественном праве, Бердяев вместе с темв философско-концепту-альном плане (в полном соответствии с принципами своей философии духа и пониманием свободы как духовного явления) трактует этинеотчуждаемые права человека как именно духовные, а не естественные права. "Учение о естественном праве, которое признавало права человека независимо от политических прав, установленных государством, - отмечает он, - делало теоретическую ошибку, которая свойственна незрелой метафизике того времени. В действительности неотъемлемые права человека, устанавливающие границы власти общества над человеком, определяются не природой, а духом. Это духовные права, а не естественные права, природа никаких прав не устанавливает. Такую же ошибку делали, когда совершали революцию во имя природы; ее можно делать только во имя духа, природа же, т. е. присущий человеку инстинкт, создавала лишь новые формы рабства" 4 .
Подправом в философии Бердяева имеются в виду лишьдуховные неотчуждаемые права человека - "субъективные права человеческой личности" 5 , свобода духа, свобода совести, свобода
" Там же. С. 307, Показательно, что в угоду своей концепции христианского персонализмаБердяев обходит молчанием тот общеизвестный факт, что как начало учений о естественном праве, так и естественноправовая идея о свободе всех людей восходят к дохристианским временам, к античным (греческим и римским) авторам.
2 Там же. С. 314.
3 Бердяев Н.А. Государство // Власть и право. Из истории русской правовой мысли.
Л., 1990. С. 288.
" Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. С. 307.
5 Бердяев Н.А. О назначении человека. С. 175.
Глава 4. Философия права в России
мысли и слова. Эти неотчуждаемые субъективные права и свободы он называет также "идеальным правом" 1 .
Соотношение права и закона в трактовке Бердяева в целом соответствует логике соотношениясвободы (свободной личности) и государства и предстает как соотношение"идеального права" (т. е. духовных неотчуждаемых субъективных прав человека) ипринудительного закона. "Государство, - пишет Бердяев, - стоит под знаком закона, а не благодати"2. При этом на закон он распространяет все негативные свойства и характеристики государства. Закон так же греховен, как и власть. В конфликте реальной силы и идеального права государство всегда решает: реальная сила. Выражением этого силового начала и является, по Бердяеву,"принуждающий закон" - "противоположение свободе"3.
В рамках философско-правовых воззрений Бердяева право и закон - непримиримые противоположности, так чтовозможность правового закона здесь в принципе исключена. Позитивное право у Бердяева - это всегда антиправовой закон. "Право как орган и орудие государства, как фактическое выражение его неограниченной власти, - пишет он, - есть слишком часто ложь и обман - это законность, полезная для некоторых человеческих существ, но далекая и противная закону Божьему. Право есть свобода, государство - насилие, право - голос Божий в личности, государство - безлично и безбожно" 4 .
Вечная тенденция государства и закона состоит, по оценке Бердяева, в нарушении свободы и права. Он критикует государство и закон также и заих абстрактно-всеобщий характер: "Государство не знает тайны индивидуального, оно знает лишь общее и отвлеченное. И личность для него есть общее... Государство еще может признать отвлеченное субъективное право человека и гражданина, да и то неохотно, но никогда не признает индивидуальных, неповторимых, единичных, качественно своеобразных прав отдельной личности с ее индивидуальной судьбой" 5 .
Здесь Бердяев явно находится в плену своего общегонегативного (и во многом нигилистического) отношения к государству и закону и совершенно неосновательно критикуетих за то, что составляет их величайшее достоинство и ценность - принцип всеобщего и равного отношения ко всем, абстрагированный от присущих им индивидуальных особенностей, различий и т. д. Только благодаря этому, собственно говоря, ивозможна в этом мире свобода лю-
" Там же. С. 172.
3 Бердяев Н.А.
* Бердяев Н.А. Государство. С. 291.
" Бердяев Н.А. О назначении человека. С. 174.
Раздел V. История философии права и современность
дей - свобода в форме правового закона, утверждаемая и защищаемая правовым государством.
Но в рамках христианского персонализма Бердяева "героическое понимание свободы противоположно старому либеральному пониманию свободы" 1 . К тому же, по его утверждению, "свобода скорее аристократична, чем демократична" 2 . С этим связано и полноеотсутствие во всем учении Бердяева пониманияправового смысла равенства, его связи со свободой и справедливостью. Напротив, он вполне в стиле Ницше (хотя и с иных позиций), имея, видимо, в виду уравниловку, яростноатакует равенство и восхваляет неравенство. Апологии неравенства посвящена его книга "Философия неравенства", где он, в частности, утверждает: "Неравенство есть условие развития культуры. Это - аксиома... И в Царстве Божием будет неравенство. С неравенством связано всякое бытие... И во имя свободы творчества, во имя цвета жизни, во имя высших качеств должно быть оправдано неравенство" 3 .
Отрицание формального равенства в сочетании с критикой абстрактной всеобщности государства и закона и представлениями о необходимости признания каких-тонеповторимых единичных прав отдельной человеческой личности (т. е., юридически говоря, индивидуальных привилегий) демонстрирует очевидные пороки в правопонимании Бердяева.
Конфронтационный характер отношений между правом и законом присутствует и в бердяевской трактовке отношений между правдой и справедливостью. "Свобода, - пишет он, - есть что-то гораздо более изначальное, чем справедливость. Прежде всего справедливость-юстиция есть совсем не христианская идея, это идея законническая и безблагодатная. Христианство явило не идею справедливости, а идею правды. Чудное русское слово"правда", которое не имеет соответствующего выражения на других языках. Насильственное осуществление правды-справедливости во что бы то ни стало может быть очень неблагоприятно для свободы, как и утверждение формальной свободы может порождать величайшие несправедливости" 4 .
Здесь в борьбе против "законнического" зла Бердяев по сути делаотрицает правовой смысл справедливости, а заодно и свободы, которая как нечто чисто негативное отвергает все логически возможные правовые формы ее признания и утверждения в объективном мире.
В явном противоречии со смыслом своего негативного подхода к государству и закону Бердяев все же вынужденно признаетих
" Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. С. 325. 1 Там же С. 327.
3 Бердяев Н.А. Оправдание неравенства. М., 1990. С. 193, 200 * Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. С. 322.
Глава 4. Философия права в России
весьмаограниченные позитивные функции и "положительную миссию в греховном, природном мире" 1 . По аналогии с "минимумом нравственности" у Соловьева Бердяев говорит о поддержке государством "минимума добра и справедливости" 2 не в силу любви к добру, которая ему чужда, а потому, что без такого минимума добра и справедливости наступит хаос, угрожающий силе и устойчивости государства.
В таком контексте Бердяев признает, что "и сам принуждающий закон может быть охранением свободы от человеческого произвола" 3 .
По поводуконфликта закона и благодати Бердяев полагает, что общество не может жить исключительно по благодати, и в этой связи отмечает положительное значение закона для социальной жизни особенно там, где личность подвергается насилию и за ней отрицается всякое право. "И мы, - пишет он, - стоим перед следующим парадоксом: закон не знает живой, конкретной, индивидуально неповторимой личности, не проникает в ее интимную жизнь, но закон охраняет эту личность от посягательства и насилия со стороны других личностей, охраняет независимо от того, каково направление и духовное состояние других личностей. В этом великая и вечная правда закона, правда права. И христианство должно признать эту правду... Нельзя отменить закон и ждать осуществления любви" 4 .
В русле характеристики положительной роли закона Бердяев верно отмечает, чтоэтика искупления, занявшая место закона, становится насильственной и отрицает свободу. Имея в виду закон, защищающий свободу личности, Бердяев допускаетсосуществование высшего порядка благодати и земного порядка закона. "Два порядка, - замечает он, - сосуществуют. И всегда благодатный порядок есть порядок преображающий и просветляющий, а не насилующий. Высший образ этики закона есть право" 6 . Здесь есть элегантный намек на правовой закон. Однако такие отдельные суждения Бердяева о позитивных аспектах соотношения права и закона не получили у него концептуальной разработки.
Бердяев различаетдва типа учений об отношении между правом и государством. Первый тип, преобладающий в теории и на практике, он называет "государственным позитивизмом" 6 . Здесь государство трактуется как источник права и суверенная власть, санкционирующая и распределяющая права. К этому типу Бердяев (в работе 1907 г.) относил всякое абсолютистское государство (само-
" Бердяев Н.А. О назначении человека. С. 173.
2 Там же. С. 172.
3 Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. С. 323.
4 Бердяев Н.А. О назначении человека. С. 98.
5 Там же. С. 98-99.
6 Бердяев Н.А. Государство. С. 289.
Раздел V. История философии права и современность
державное, демократическое и будущее социалистическое), где право подчиняется государству.
Противоположный тип учений признает "абсолютность права и относительность государства: право имеет своим источником не то или иное положительное государство, а трансцендентную природу личности, волю сверхчеловеческую. Не право нуждается в санкции государства, а государство должно быть санкционировано, судимо правом, подчинено праву, растворено в праве"".
Однако развиваемая Бердяевым концепция свободы и права - в силу ее общего нигилистического отношения к объективному миру общества, государства, закона - по сути своей ориентирована не в сторону практической реализации идей господства права в практически осуществимых формах правового государства и правового закона. Трансцедентный, негативный смысл свободы и неотчуждаемых прав (вих бердяевском понимании) в принципе исключает саму возможность их позитивации в виде надлежащих государственных институтов, процедур, законов и т. д. Отсюда и девальвация последних в трактовке Бердяева. "Правовое государство, - замечает он, - вещь очень относительная... Права и свободы человека безмерно глубже, чем, например, всеобщее избирательное право, парламентский строй и т. п., в них есть священная основа" 2 .
Но эта "священная основа" из-за своей нестыкуемости с грешным, земным миром государства и закона не становится и в принципе не может стать (в рамках бердяевского христианского персонализма) реальной основой для объективного мира и его совершенствования.
Восхваляемая Бердяевым правда христианского персонализма (в том числе - свободы личности и ее неотчуждаемых прав), с пророческой бескомпромиссностью отрицающая земной мир зла, в ее негативном отношении к государству и закону во многом трудно отличима отанархизма и нигилизма.
Бердяев постоянно открещивался от такого толкования его философии и нередко сам критиковал подобные воззрения и отмечал, что "отвержение государства как зла и неправды не есть отрицание всякой системы управления, всякой общественной организации и гармонизации жизни во имя положительных начал" 3 . Но то же самое может сказать и любой другой идеолог анархизма.
Сама по себе религиозность анархизма не делает его положительным явлением и гармонизирующим началом. Тем более, что наряду со злом анархии Бердяев прямо признавал иправду анархизма. "В анархизме, - писал он, - есть доля правды. Анархизм
" Там же. С. 290.
2 Бердяев Н.А. Философия неравенства. С. 155. См. также: Бердяев Н.А. Государство.
" Бердяев Н.А. Государство. С. 302.
Глава 5. Философия правав XX в.: основные концепции
совершенно неприменим к нашему грешному миру, который подлежит закону, и анархическая утопия есть ложь и прельщение. Но совершенную жизнь, Царство Божье можно мыслить лишь анархически, что и есть апофатическое мышление о Царстве Божьем, единственное истинное, в котором устраняется всякое сходство с царством кесаря, с царством этого мира и достигается отрешенность"*.
Но это апофатическое (отрицательное) религиозно-философское мышление (и его социально значимые результаты - свобода и права личности вих бердяевском понимании) применительно к объективному миру (закону, государству и т. д.) как раз и означает его религиозно-философское отрицание, т. е. религиозно-философское обоснование анархизма. И если, отступая от этого, Бердяев все же признает в социально-прагматической плоскости относительную полезностьим же религиозно-философски отвергнутых феноменов объективного мира, то это, как минимум, свидетельствует о непоследовательности его взглядов ипротиворечиях между его философской (в том числе -философско-правовой) концепцией и прагматическими суждениями о государстве и законе.
Вместе с тем не вызывает сомнений, что настойчивая проповедь Бердяевым идей свободы и радикальная критика всех форм гнета, насилия, авторитаризма и тоталитаризма является важным духовным вкладом в дело борьбы за утверждение идей гуманизма, свободы и неотчуждаемых прав личности в реальной действительности.